Жизнь, сволочь в лиловом мундире,
гуляет светло и легко,
но есть одиночество в мире
и гибель в дырявом трико.
С чего бы в такой веселый день, когда жара за окном набирает летнюю силу, солнце уже без весеннего стеснения палит из всех орудий, птички там разные переругиваются торопливым чириканьем и хочется жить и улыбаться, с чего бы в такой погожий выходной день вспоминать о горьком, тоскливом и безысходном? Не знаю. Просто когда-то заметил короткую статью про голландский фильм о русском поэте Борисе Рыжем. Заметил, забыл, а сегодня вдруг само собой всплыло в памяти. Фильм собственно так и называется «Борис Рыжий». И вроде нет в нем нечего особо замечательного. С художественной точки, как любят ценители, картина эта – всего лишь круглый серый ноль: есть люди, и есть камера. Больше, в принципе, не надо. Заглавный герой появляется на экране только в хроникальных кадрах из чуть ли не единственной видеозаписи – забытой, ставшей даже раритетной телепередачи об обладателе премии «Антибукер» 99-го года.
Похоронная музыка
на холодном ветру.
Прижимается муза ко
мне: я тоже умру.
Духовые, ударные
в плане вечного сна.
О мои безударные
"о", ударные "а".
Отрешенность водителя,
землекопа возня.
Не хотите, хотите ли,
и меня, и меня
до отверстия в глобусе
повезут на убой
в этом желтом автобусе
с полосой голубой.

Ах да – не сказал важное – Борис Рыжий умер в 2001-ом. Повесился на балконной двери в возрасте 26-и лет, когда жизнь его была вполне благополучной с милой женой, прекрасным сыном, выгодной научной карьерой геофизика (8 лет по этой специальности учился) и немалой известностью поэта не только среди узкого круга посвященных на родине, но и в далекой Голландии, где стихи его неожиданно стали чуть ли не всенародно любимыми. Самозарождающийся вопрос: «Почему?» - взволновал по большому счету только заграницу, а именно голландского режиссера Алену Ван Дер Хорст. Она через 8 лет после смерти поэта приехала в Екатеринбург (бывший Свердловск), где Рыжий, по его же словам, прожил лучшую половину жизни – все школьные годы.
Так гранит покрывается наледью,
и стоят на земле холода, -
этот город, покрывшийся памятью,
я покинуть хочу навсегда.
Будет теплое пиво вокзальное,
будет облако над головой,
будет музыка очень печальная -
я навеки прощаюсь с тобой.
Больше неба, тепла, человечности.
Больше черного горя, поэт.
Ни к чему разговоры о вечности,
а точнее, о том, чего нет.
Это было над Камой крылатою,
сине-черною, именно там,
где беззубую песню бесплатную
пушкинистам кричал Мандельштам.
Уркаган, разбушлатившись, в тамбуре
выбивает окно кулаком
(как Григорьев, гуляющий в таборе)
и на стеклах стоит босиком.
Долго по полу кровь разливается.
Долго капает кровь с кулака.
А в отверстие небо врывается,
и лежат на башке облака.
Я родился - доселе не верится -
в лабиринте фабричных дворов
в той стране голубиной, что делится
тыщу лет на ментов и воров.
Потому уменьшительных суффиксов
не люблю, и когда постучат
и попросят с улыбкою уксуса,
я исполню желанье ребят.
Отвращенье домашние кофточки,
полки книжные, фото отца
вызывают у тех, кто, на корточки
сев, умеет сидеть до конца.
Свалка памяти: разное, разное.
Как сказал тот, кто умер уже,
безобразное - это прекрасное,
что не может вместиться в душе.
Слишком много всего не вмещается.
На вокзале стоят поезда -
ну, пора. Мальчик с мамой прощается.
Знать, забрили болезного. «Да
ты пиши хоть, сынуль, мы волнуемся».
На прощанье страшнее рассвет,
чем закат. Ну, давай поцелуемся!
Больше черного горя, поэт.
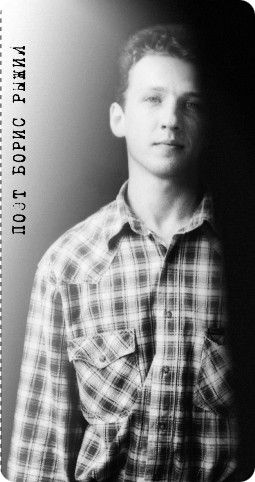
Фильм, разумеется, снят для иностранцев. У них он почти наверняка вызовет шок и лишь сильнее утвердит образ России как безнадежного края грязных снегов, измызганных простуженных дворов, пыльного, гнетущего взгляд бетона и прогнившего копотью неба. Многим же из нас он только напомнит привычные «красоты» родных улиц. Известный парадокс: в России куда не езжай, от восхода до заката – все одно, словно бы и нет пространства. Проводником в этом мире выступает сестра Бориса Рыжего, которая открывает перед явно оробевшими голландцами обычные приметы нашей жизни: хмурые и подозрительные сограждане всех возрастов и полов со взглядами от волчьего до безразличного. Съемочная группа кропотливо ищет следы памяти погибшего поэта, ходит по бывшим соседям, встречает друзей, берет интервью у жены, у сына. Предсказуемо обнаруживается, что никто, кроме близких, Рыжего не помнит, а стихов его уж и подавно не читали. Неудивительно это потому, что в повседневной жизни он даже отдаленно не напоминал «служителя муз». Без малейшего налета интеллигентности, но с лихими дворовыми повадками, шрамам в пол-лица и простыми глазами рабочего парня. Он воспринимал себя, прежде всего, как человека, а все остальное – потом. Хотя и это может быть лишь иллюзией, самообманом поэта, который легко обличается, стоит лишь бросить взор в сумрак выстраданных строк.
Приобретут всеевропейский лоск
слова трансазиатского поэта,
я позабуду сказочный Свердловск
и школьный двор в районе Вторчермета.
Но где бы мне ни выпало остыть,
в Париже знойном, Лондоне промозглом,
мой жалкий прах советую зарыть
на безымянном кладбище свердловском.
Не в плане не лишенной красоты,
но вычурной и артистичной позы,
а потому что там мои кенты,
их профили на мраморе и розы.
На купоросных голубых снегах,
закончившие ШРМ на тройки,
они запнулись с медью в черепах
как первые солдаты перестройки.
Пусть Вторчермет гудит своей трубой,
Пластполимер пускай свистит протяжно.
А женщина, что не была со мной,
альбом откроет и закурит важно.
Она откроет голубой альбом,
где лица наши будущим согреты,
где живы мы, в альбоме голубом,
земная шваль: бандиты и поэты.

Режиссер ставит заведомо риторический вопрос, пытаясь понять причины негаданного, на первый взгляд, абсурдного самоубийства. Но «сентиментальное путешествие на родину» с избытком предоставляет лишь гипотезы и мнения разных людей. Легко упрекать среду – душный омут промышленного города, лязгающий в голове свинцовой обреченностью. Интересно связать судьбу художника слова с историй страны на сломе времен, прошить его нервными нитями прошлого, где жили самые дорогие люди – лучшие друзья, безвестные хулиганы и воры, или, как пишет Рыжий, «первые солдаты перестройки». Возможно, с ними он был одним целым с единым непрерывным дыханием, но безжалостной гильотиной перемены разрубили жизнь, оставив поэта в насмешку над ним среди никчемно живых. Впрочем, ничего на самом деле неясно. Ведь если бы у самоубийства была причина, источник, корень яда – его можно было бы аккуратно выдавить, освободив разум от смертельного отравления мыслями. И чтобы поведать о том, как легок путь в петлю, можно написать тысячу страниц, отснять километры пленки, или запнуться на перовом же слове, сухо сглотнув в гулком безмолвии недоумения. Разницы нет, и все бессмысленно.
Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей
и обеими руками обнимал моих друзей —
Водяного с Черепахой, щуря детские глаза.
Над ушами и носами пролетали небеса.
Можно лечь на синий воздух и почти что полететь,
на бескрайние просторы влажным взором посмотреть:
лес налево, луг направо, лесовозы, трактора.
Вот бродяги-работяги поправляются с утра.
Вот с корзинами маячат бабки, дети — грибники.
Моют хмурые ребята мотоциклы у реки.
Можно лечь на теплый ветер и подумать-полежать:
может, правда нам отсюда никуда не уезжать?
А иначе даром, что ли, желторотый дуралей —
я на крыше паровоза ехал в город Уфалей!
И на каждом на вагоне, волей вольною пьяна,
«Приму» ехала курила вся свердловская шпана.
(Заголовок и стихи Бориса Рыжего)